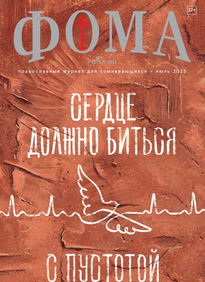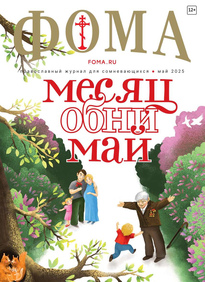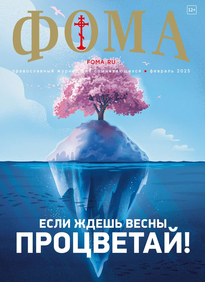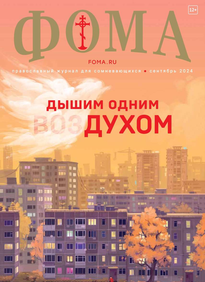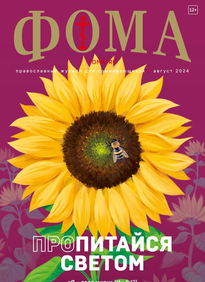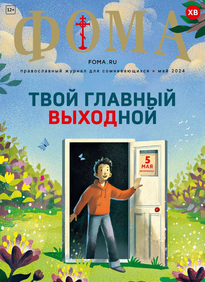«451 градус по Фаренгейту» по праву стоит в одном ряду с «Мы» Евгения Замятина, «Дивным новым миром» Олдоса Хаксли, «1984» Джорджа Оруэлла и многими другими, не столь известными книгами. Я говорю об антиутопиях как направлении художественной литературы, противоположном утопии.
И прежде чем перейду к роману Брэдбери, скажу пару слов об утопиях и антиутопиях — чтобы стало понятнее, в какой системе координат рассматривать «451 градус».
Утопия, то есть художественное изображение идеального общества, возникла очень давно, еще в античности. «Государство» Платона можно считать утопией. Само слово «Утопия» (дословно — «место, которого нет») появилось благодаря одноименному произведению Томаса Мора (1516). Затем были «Город солнца» Томмазо Кампанеллы (1602), «Потерянный рай» Джона Мильтона (1667).
Но если посредством литературы можно размышлять о наилучшем устроении социума, то можно задаться и прямо противоположным вопросом: а может ли быть хуже, чем сейчас? И не приведет ли нас история к самому настоящему аду на земле? Вот об этом и размышляют авторы антиутопий, то есть книг о том, чего не должно случиться, чего нельзя допустить. Причем антиутопии не досужая игра ума, все они исследуют реальные тенденции развития общества, все они говорят о том, что в принципе возможно — если и дальше все будет идти так, как оно идет.
Первые антиутопии тоже появились довольно давно, это, к примеру, «Левиафан» Томаса Гоббса (1651), хотя здесь скорее философский памфлет, а не художественная проза. Это в определенном смысле и «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта (1726). Это, конечно, и некоторые романы Герберта Уэллса — «Машина времени» (1895), «Остров доктора Моро» (1896), «Когда спящий проснется» (1899).
Однако если говорить о наиболее известных антиутопиях прошлого века, то первым в голову приходит «1984» Джорджа Оруэлла. Этот роман не только показал глубинную суть тоталитаризма, но и заложил целую литературную традицию, стал стандартом жанра.
В чем суть этого стандарта? Некие радикальные группировки (партии) преступным путем захватывают в государстве власть и далее сознательно, злонамеренно превращают жизнь населения в ад, уничтожают не просто даже несогласных с такой политикой, но и всех, кто недостаточно восторгается происходящим. Контролируется каждый шаг человека, каждый его чих. Кем контролируется? Могущественными спецслужбами, действия которых не ограничены ничем. Запрещается примерно всё, граждане становятся бесправными рабами тех, кто управляет. Из людей выдавливается все доброе, их сознательно и целенаправленно делают злыми и глупыми. В общем, страна превращается в Мордор из толкиновского «Властелина колец», только без магии. Перед нами же не фэнтези, а социальная фантастика.
Главное — что беда приходит извне, беду приносят злодеи. Примерно как в том же «Властелине колец», где недобитые орки во главе с недобитым Саруманом захватывают власть в Хоббитании.
Нет официально утвержденной идеологии, транслируемой из каждого утюга. Все внешние атрибуты демократии, включая выборы, существуют. Единственная идеологическая спецслужба — «пожарные» — по своему масштабу и по своим полномочиям заметно уступает даже реально существующим в современном мире силовым структурам, не говоря уже о всемогущем «министерстве любви» из романа Оруэлла. В самом деле, что делают пожарные в романе? Сжигают книги. Да, вместе с домом их владельца, но самого владельца при этом не репрессируют. Далее, население вовсе не бедствует, хлеба и зрелищ навалом, практически всех всё устраивает. Обыватели не выглядят запуганными.
Ловушка «квалифицированного потребителя»
В этом — что все выросло само, без участия внешних темных сил — основная идея романа. Не было никаких заговорщиков, никаких зловещих пришельцев или фанатиков какой-то мессианской идеологии. Жила себе Америка и жила, богатела (правда, и воевала — вполне успешно: «После тысяча девятьсот шестидесятого года мы затеяли и выиграли две атомные войны»). И как-то постепенно, незаметно пришла к тому, что книги под запретом, их сжигают, что в тренде лишь тупые развлечения, а думающие люди, с высокими духовными устремлениями, считаются сумасшедшими, подавляющее большинство населения ведет, по сути, растительный образ жизни, потребляя продукты эрзац-культуры — бесчисленные мыльные оперы с элементами интерактива (те самые «родственники» на телеэкранах во все стены, которые жене главного героя, Гая Монтэга, гораздо ближе и дороже, чем он сам).
То есть перед нами тоталитарное общество — без спущенной сверху идеологии. Тоталитарное, потому что все думают одинаково — вернее, вообще не думают о серьезных вещах. Тоталитарное, потому что любое отклонение от стандарта не то чтобы прямо преследуется, но всеми отторгается. Таких чудиков, как соседка Монтэга Кларисса, никто не воспринимает всерьез. Точно так же, как не воспринимают и самого Монтэга, когда, прозрев, он пытается говорить с женой и ее подругами.
Я даже думаю, что и сама эта «служба пожарных» — избыточный элемент конструкции, что в принципе ничего бы не изменилось и без них. Ну не сжигали бы книги, но новые в любом случае неиздавались бы, а чтение старых всеми воспринималось бы как нечто, достойное порицания, общественно опасное. Никакие «диссиденты», даже имей они возможность безнаказанно взывать к обществу, не добились бы ничего. В этой Америке начала XXI века уже нет той среды и той инфраструктуры, благодаря которым возможны общественные дискуссии. Социум необратимо деградировал. В изображенном на страницах романа обществе потребления и наживы всё, что могли бы сказать Кларисса, Монтэг, Фабер, Грэнджер — это глас вопиющего в пустыне.
Такое общество вынуждено гнить — сперва духовно, а потом и экономически. Пока что оно пользуется плодами труда прошлых поколений, наработками ученых и инженеров, умевших и любивших думать, изобретать. Поколение Монтэга на это уже не способно, оно может лишь использовать созданное ранее. В конце концов такое общество обречено на поражение — и, кстати, в романе поражение как раз и случается. Америка ввязалась в очередную ядерную войну — и не сумела защитить свои города от неприятельских бомбардировок. Ну в самом деле, не могут разработать эффективные средства ПВО люди, которых учили вот так: «Урок по телевизору, урок баскетбола, бейсбола или бега, потом урок истории — что-то переписываем, или урок рисования — что-то перерисовываем, потом опять спорт. Знаете, мы в школе никогда не задаем вопросов. По крайней мере большинство. Сидим и молчим, а нас бомбардируют ответами — трах, трах, трах, — а потом еще сидим часа четыре и смотрим учебный фильм».
Как же Америка до этого докатилась? В романе есть подробнейший ответ — в сцене, где брандмейстер Битти (начальник Монтэга и главный отрицательный герой) читает целую лекцию на эту тему.
«Но когда в мире стало тесно от глаз, локтей, ртов, когда население удвоилось, утроилось, учетверилось, содержание фильмов, радиопередач, журналов, книг снизилось до известного стандарта. Этакая универсальная жвачка». Дальше — больше: «Произведения классиков сокращаются до пятнадцатиминутной радиопередачи. Потом еще больше: одна колонка текста, которую можно пробежать за две минуты; потом еще: десять — двадцать строк для энциклопедического словаря». А затем: «Крутите человеческий разум в бешеном вихре, быстрей, быстрей! — руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы центробежная сила вышвырнула вон все лишние, ненужные, бесполезные мысли!» И как следствие: «Жизнь коротка. Что тебе нужно? Прежде всего работа, а после работы развлечения, а их кругом сколько угодно, на каждом шагу, наслаждайтесь! Так зачем же учиться чему-нибудь, кроме умения нажимать кнопки, включать рубильники, завинчивать гайки, пригонять болты?»
То есть научно-технический прогресс приводит к изменениям сперва в экономике, а потом и в социальной сфере, и в культурной. Темп жизни так ускоряется, что некогда становится думать, вникать в суть вещей. Тем более что не просто некогда, а и незачем — тебе же гарантировано удовлетворение базовых потребностей. Хлеба и зрелищ! В результате поверхностность, примитив, пошлость становятся мейнстримом.
А как только они становятся мейнстримом, меняется отношение к тому, что когда-то считалось правильным и достойным — к высокой культуре, к духовной жизни, к подлинным человеческим отношениям. Просто потому, что все перечисленное оказывается неприятным, раздражающим фоном, мешает наслаждаться хлебом и зрелищами, намекает, что, кроме господствующего примитива, возможно что-то лучшее, высшее. И, как признает Битти, «в результате неудовлетворенность. Какое-то беспокойство».
То есть в подсевшем на хлеб и зрелища социуме не возникает «чувства глубокой удовлетворенности». Что-то мешает, раздражает. И ответная реакция на это «что-то» — агрессия. «Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного», — поясняет Битти.
Битти показывает и то, как эта агрессия эволюционирует. Начинается все с обиженных сообществ.«Возьмем теперь вопрос о разных мелких группах внутри нашей цивилизации. Чем больше население, тем больше таких групп. И берегитесь обидеть которую-нибудь из них — любителей собак или кошек, врачей, адвокатов, торговцев, начальников, мормонов, баптистов, унитариев, потомков китайских, шведских, итальянских, немецких эмигрантов, техасцев, бруклинцев, ирландцев, жителей штатов Орегон или Мехико». Иначе говоря, люди, реагирующие на смутное беспокойство агрессией, стремятся соединить свои индивидуальные струйки в общий поток, почувствовать себя частью разгневанного сообщества — тем самым ведь снимается сомнение: прав ли я? Раз рядом такие же, как я, так же возмущающиеся, значит, бесспорно прав!
Далее эти мелкие группы начинают отстаивать свои, как им кажется, права. Отстаивать, продавливая на законодательном уровне запреты того, что им неприятно. «Все эти группы и группочки, созерцающие собственный пуп, — не дай бог как-нибудь их задеть! Злонамеренные писатели, закройте свои пишущие машинки! Ну что ж, они так и сделали. Журналы превратились в разновидность ванильного сиропа. Книги — в подслащенные помои».
Узнаёте? Толерантность и политкорректность, равно как и «культура отмены», жертвами которой становятся эти самые «злонамеренные писатели»! И Брэдбери описал это за полвека до того, как оно стало стержневой идеей западного общества.
А ради чего все это? Какая высшая цель? Вот как отвечает брандмейстер Битти: «Спросите самого себя: чего мы больше всего жаждем? Быть счастливыми, ведь так? Всю жизнь вы только это и слышали. Мы хотим быть счастливыми, говорят люди. Ну и разве они не получили то, чего хотели? Разве мы не держим их в вечном движении, не предоставляем им возможности развлекаться? Ведь человек только для того и существует. Для удовольствий, для острых ощущений. И согласитесь, что наша культура щедро предоставляет ему такую возможность».
Тут мне сразу вспоминается Великий инквизитор из «Братьев Карамазовых» Достоевского: «Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками». Не знаю уж, читал ли Брэдбери Достоевского, но они явно были настроены на одну волну.
Причем, что важно, это произошло именно снизу, через общественные механизмы, а не государственные. «И все это произошло без всякого вмешательства сверху, со стороны правительства. Не с каких-либо предписаний это началось, не с приказов или цензурных ограничений. Нет! Техника, массовость потребления и нажим со стороны этих самых групп — вот что, хвала Господу, привело к нынешнему положению».
Государство, впрочем, позднее тоже подключилось — идя навстречу пожеланиям масс. А массы желают. «Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения, как сказано в Конституции, а просто мы все должны стать одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга как две капли воды; тогда все будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют свое ничтожество. Вот! А книга — это заряженное ружье в доме соседа. Сжечь ее! Разрядить ружье! Надо обуздать человеческий разум. Почем знать, кто завтра станет очередной мишенью для начитанного человека? Может быть, я? Но я не выношу эту публику!» И вот тогда, уже на государственном уровне, «...на пожарных возложили новые обязанности — их сделали хранителями нашего спокойствия. В них, как в фокусе, сосредоточился весь наш вполне понятный и законный страх оказаться ниже других. Они стали нашими официальными цензорами, судьями и исполнителями приговоров».
Это же говорит Монтэгу и старый филолог Фабер: «И тогда, поняв, насколько будет спокойнее, если люди будут читать только о страстных поцелуях и жестоких драках, наше правительство подвело итог, призвав вас, пожирателей огня».
Вот так оно и выросло. Без кровавых революций, без диктатуры радикальных партий, без массовых репрессий. Постепенно, незаметно, шаг за шагом, и не было тут никакого злодейского хитрого плана, не было никакого Темного Властелина. Просто люди в большинстве своем устали напрягаться, стремиться к высшему, им захотелось быть не творцами, а «квалифицированными потребителями» (термин не из романа Брэдбери, а из наших реалий). Но ведь мало отказаться от высшего — для полного душевного спокойствия надо это самое высшее изничтожить, стереть всякую память о нем. И в итоге возникает чудовищное тоталитарное общество, на мой взгляд, куда более страшное даже, чем описанное в «1984» Оруэлла.
Почему более страшное? Потому что там тоталитарная диктатура — это все-таки нечто внешнее по отношению к обществу. Да, не с неба свалившееся, да, отвечающая массовому запросу, но все-таки это железная рука, давящая людей. Убери эту руку, и люди рано или поздно придут в себя, вспомнят, что они личности, а не винтики бездушной государственной машины. Что мы и видим в истории, когда тоталитарные диктатуры рушатся. А вот изображенная Брэдбери «Америка спустя полвека» — это не диктатура, там нет ничего внешнего, душащего социум. Не пожарных же считать такой «железной рукой» — это, как я уже говорил, не главный и даже не обязательный элемент конструкции. Убери пожарных — ничего не изменится. Вообще непонятно, а что же вообще надо оттуда убрать, чтобы хоть что-то изменилось. Это совершенно самодостаточное общество, закостеневшее, неспособное ни к какому развитию.
Могу привести довольно жесткую аналогию. Англия в «1984» — это жертва насильника. Избавь ее от насильника — и она постепенно залечит травму и сможет жить нормальной жизнью. Америка в «451 градусе» — это жертва растлителя. Уничтожь растлителя — а растленность останется. Тем более что и уничтожать-то некого, не было никакого внешнего гада. Сами всё, сами...
Не запретить, а подменить
Логично было бы предположить, что в таком тоталитарном обществе религия под запретом. В самом деле, это же максимальный раздражитель для тех, кто похож друг на друга как две капли воды, для тех, кто не хочет чувствовать свое ничтожество по сравнению с духовными великанами! Тем более, что и Библия-то под запретом. Ее, обнаружив у кого-то, сжигают (вместе с домом нарушителя). То есть в этом обществе, казалось бы, должен быть принудительный атеизм.
Но нет! Все еще хуже. Библия — да, под запретом, но не потому, что это откровение Божие, а просто потому, что это книга, наряду с другими — с поэмами Гомера, пьесами Шекспира, курсом римской истории Гиббона. А вот быть верующим — вполне допускается. Церкви никто не закрывает. Но вот что об этом говорит старик Фабер:
«Я никогда не был религиозным… Но столько времени прошло с тех пор… — Фабер перелистывал книгу, останавливаясь иногда, пробегая глазами страничку. — Все та же, та же, точь-в-точь такая, какой я ее помню! А как ее теперь исковеркали в наших телевизорных гостиных! Христос стал одним из “родственников”. Я часто думаю, узнал бы Господь Бог Своего Сына? Мы так Его разодели. Или, лучше сказать, раздели. Теперь это настоящий мятный леденец. Он источает сироп и сахарин, если только не занимается замаскированной рекламой каких-нибудь товаров, без которых, мол, нельзя обойтись верующему».
То есть никакой атеистической пропаганды. Этому обществу не страшен Христос — такой, каким Его сделали реклама и СМИ.
А так-то храмы есть, верующие в них ходят. «Монтэг молча разглядывал лица женщин; так когда-то он разглядывал изображения святых в какой-то церквушке чужого вероисповедания, в которую случайно забрел ребенком. Эмалевые лики этих странных существ остались чужды и непонятны ему, хоть он и пробовал обращаться к ним в молитве и долго простоял в церкви, стараясь проникнуться чужой верой, поглубже вдохнуть в себя запах ладана и какой-то особой, присущей только этому месту пыли». Изображения святых, запах ладана — сразу возникает предположение, что это православная церковь. Правда, в следующем абзаце говорится про статуи, и тут уже звучит намек на католиков. Но в любом случае традиционные конфессии никто не запрещал — просто извратилась сама вера.
А вот что происходит, если священник пытается говорить о том, что составляет суть христианства: «Преподобный отец Падовер тридцать лет тому назад произнес несколько проповедей и в течение одной недели потерял прихожан из-за своего образа мыслей», — рассказывает Монтэгу предводитель бродячих интеллигентов Грэнджер. И пришлось отцу Падоверу стать гонимым бродягой.
Вот и получается, что в этом тоталитарном обществе человек максимально оторван от религиозной традиции. Оторван не потому, что религия запрещена, а потому, что она извращена. В ситуации запрета (как это было в нашей реальной истории) хотя бы сохраняется ощущение того, что Истина есть, хоть и доступ к ней заблокирован. А тут вроде бы и блокировки нет, храмы открыты, ходи, слушай проповеди, соблюдай обряды... но только вот Бога в этих храмах нет. И узнать о Боге неоткуда, потому что в храме не скажут, а Библию не прочтешь, сожгли почти все экземпляры.
Но духовная жажда, смутное ощущение чего-то высшего все равно же остается, несмотря на общий уклад жизни, несмотря на отупляющее телевидение. Даже Монтэгу такая жажда свойственна — при том, что воспитание он получил типовое, отец его был пожарным, дед его был пожарным. Казалось бы, нет ни одной щелочки, все законопачено, а все же душа его испытывает некое томление, куда-то ее тянет.
На мой взгляд, из текста можно сделать вывод, что происходящее с Монтэгом не случайность, что в его жизни действует Промысл Божий. Не уверен, что Брэдбери специально закладывал такой смысл, но такая интерпретация возможна.
Ну вот, например, в самом начале: «...он испытывал это странное чувство. Ему казалось, что за мгновение до того, как ему повернуть, за углом кто-то стоял. В воздухе была какая-то особая тишина, словно там, в двух шагах, кто-то притаился и ждал и лишь за секунду до его появления вдруг превратился в тень и пропустил его сквозь себя». Уж не ангела ли хранителя ощутил Монтэг? Причем это чувство появляется у него непосредственно перед встречей с девушкой Клариссой, которая «не такая, как все» и со знакомства с которой Монтэг начал задумываться. И далее, уже после общения с Клариссой, он думает: «И, вспомнив об их встрече, он подумал: “Да ведь, право же, она как будто знала наперед, что я приду, как будто нарочно поджидала меня там, на улице, в такой поздний час…”» И далее Монтэг говорит, осмысливая произошедшие с ним перемены: «Я давно чувствовал, как что-то нарастает во мне. Я делал одно, а думал совсем другое. Это зрело во мне».
Зрело-то оно зрело, и довольно давно, еще до встречи с Клариссой (Монтэг же к тому моменту насобирал целую библиотеку украденных «при исполнении» книг), но все-таки был у него некий ключевой, поворотный момент — когда на очередном вызове пожилая женщина устроила самосожжение, предпочла сгореть вместе со своими книгами. И это так сильно на Монтэгаподействовало, что несколько дней он был сам не свой, ни о чем другом не мог думать. Почему? Потому что увидел мученичество, увидел свидетельство. Если книги человеку так дороги, что он готов разделить с ними ужасную смерть, значит, они не просто хранилище информации, значит, через них в человека входит нечто. Нечто более высокое, чем сам человек, нечто более важное. Некая Истина с большой буквы. Если любовь к книгам дает человеку такую силу, такое мужество, значит, существует источник этой силы и этого мужества. Существует вне самого человека. Характерно, что именно на этом вызове Монтэг прихватил и спрятал от коллег Библию.
После этого процесс внутри у героя пошел стремительно. И это не осталось незамеченным. У пожарных есть так называемые «механические псы» — роботы, запрограммированные на вынюхивание крамолы. Есть такое устройство и в том отделении, где служит главный герой. И этот механический пес начинает вдруг проявлять агрессию, когда Монтэг оказывается рядом. Я здесь вижу четкую метафору того, что силы зла могут быть безразличны по отношению к тем, кто и без того в их власти, но активизируются, когда замечают в человеке некую работу духа, стремление освободиться.
То есть, как только Монтэг начинает задумываться, начинает качественно меняться, зло обращает на него внимание. Зло с большой буквы, то есть, по сути, сатана и подвластные ему духи. А уж через кого они действуют — через робота-пса или через брандмейстера Битти — это, как говорится, уже технический вопрос.
Между прочим, брандмейстер Битти — интересный герой. Явно неординарный человек. Он прекрасно начитан, он не просто выполняет возложенные на него служебные обязанности, но делает это со рвением. Он искренне ненавидит высокую культуру, и в этой ненависти прослеживается что-то личное. Мне кажется, Битти шел когда-то тем же путем, что и Монтэг, тоже усомнился в сложившемся порядке вещей, тоже начал тайно собирать и читать книги — но в какой-то момент сломался. Сломался — и возненавидел себя, еще не сломленного. Потому и Монтэга он ненавидит, что почувствовал в нем себя, точнее то, что он в себе предал. И в романе очень четко, открытым текстом показано: этого умного и циничного человека сжирает что-то изнутри. Он заявляет, сколь прекрасна жизнь без стремления к высшему — но ему не хочется жить. Он сознательно провоцирует Монтэга и добивается своего: защищаясь, тот сжигает его из огнемета. Тут перед нами своего рода пассивный суицид, и это все прекрасно вписывается в христианское представление о том, как развивается в человеке грех, как он становится игрушкой воздействующих на него бесов.
«Не ждите спасения от чего-то одного…»
И вот тут мы переходим к самому главному вопросу: а кто виноват в сложившемся положении вещей? Если не какие-то злодеи, захватившие в Америке власть, если оно все само выросло, то почему? Что помешало предотвратить этот ужас?
На мой взгляд, ответ в тексте есть, и ответ очень горький для самого автора. Ответ такой: да сама же культура и виновата. Сама эта высокая человеческая культура содержит в себе некое семя зла, некий дефект, который, разрастаясь, неизбежно приводит к обществу потребления и наживы. «Вся наша культура мертва. Самый остов ее надо переплавить и отлить в новую форму», — говорит старый мудрец Фабер.
Одной лишь культуры, выходит, недостаточно, чтобы сдержать темное начало в человеке. И это понимает Грэнджер, говоря Монтэгу: «Но заметьте — даже в те давние времена, когда мы свободно держали книги в руках, мы не использовали всего, что они давали нам».
То есть высокая культура не содержит внутри себя каких-то защитных механизмов. Культура как таковая не может предотвратить человеческие мерзости — в том числе не может предотвратить и использование самой себя в преступных целях.
А такая иллюзия — что лишь культура способна защитить человечество от зверства — была массовой. И в позапрошлом веке, и в середине прошлого, когда Брэдбери и писал свой роман, и даже в наши дни многие так считают. Или считали. Поэтому, кстати, когда оказалось, что замечательные книги, чудесные живописные полотна и глубокая, проникновенная музыка прекрасно сочетаются с войнами, грабежами и убийствами, у многих возникла обида на культуру: мол, раз она не спасла, раз не предотвратила, то какой же в ней прок? Если Гёте и Моцарт не предотвратили нацизм, значит, долой Гёте и Моцарта!
Делает такую ошибку и прозревший Монтэг. Ему кажется, будто если пожарные сжигают книги, то сами по себе книги спасут человечество. На что ему возражают сначала Фабер: «И не ждите спасения от чего-то одного — от человека, или машины, или библиотеки», а потом и куда более мудрый Грэнджер. Вообще, эти скитальцы, знающие наизусть самые главные книги, вовсе не так наивны: «Они совсем не были уверены в том, что хранимое в их памяти заставит зарю будущего разгореться более ярким пламенем...»
Культура — не панацея
Так что делать-то? Может, прав Фабер — и надо пересобрать культуру? «Самый остов ее надо переплавить и отлить в новую форму»? Может, беда именно в устаревших формах?
На мой взгляд, он тоже заблуждается, и причина его заблуждения все та же — переоценка значения культуры.
Да, культура, то есть квинтэссенция всего лучшего, что придумали, сочинили, изобрели люди, действительно может сделать отдельно взятого человека лучше. Действительно, тот, кто слушает музыку Рахманинова и ходит в театр на «Гамлета», с меньшей вероятностью начнет убивать людей. Да и в «квалифицированного потребителя» он если и превратится, то с меньшей вероятностью.
Но это, во-первых, еще не дает стопроцентных гарантий даже если перед нами высококультурный человек. Тот же брандмейстер Битти — высококультурный. О'Брайен, главный злодей из «1984» Оруэлла, тоже не от сохи, тоже человек умный и образованный. А вот однако же! Замечу, кстати, что между двумя этими культовыми романами немало перекличек — Брэдбери, писавший на пять лет позже, мог сознательно вставлять в текст такие отсылки.
А во-вторых (и это даже важнее, чем во-первых) на разных людей высокая культура действует по-разному. Кто-то к ней восприимчив, а кто-то совсем нет. Он будет скучать на концерте Рахманинова, он будет ждать антракта на постановке «Гамлета», у него совсем иные интересы. Причем вовсе не факт, что сам по себе, без одухотворяющего воздействия подлинной культуры, такой человек неминуемо превратится в чудовище.
То есть не в культуре как таковой дело. Культура — это действительно мощный инструмент воздействия, но это никакая не панацея.
Где же панацея? А нет ее. Если мы смотрим на все это с христианских позиций, то должны признать: человеческая природа испорчена, искажена первородным грехом, и эта искаженность проявляется на любом уровне, в том числе и на социальном. И более того, уровень зла в социуме хоть и колеблется, хоть и зависит от обстоятельств места и времени, но в целом нарастает — и в итоге все кончится тем, о чем говорится в книге Откровение Иоанна Богослова (более известной как Апокалипсис). Крайне наивно думать, что существует некий способ преодолеть такое нарастание зла (справедливым ли переустройством общества, как надеялись коммунисты, культурой ли и просвещением, как надеялись и до сих пор надеются светские гуманисты).
Именно поэтому культура и не может работать в качестве панацеи. Никакая, пусть десять раз очищенная от всего того, что очищающие сочтут вредными примесями. Потому что семя зла не в самой культуре как таковой, а в человеке. В том числе и в носителе высокой культуры.
Встретившиеся Монтэгу бродячие интеллигенты, «хранители памяти», помнящие наизусть множество книг, все равно остаются людьми со всеми человеческими недостатками. Они сами себя называют обложками книг («Мы всего лишь обложки книг, предохраняющие их от порчи и пыли, — ничего больше»), они видят ценность лишь в содержании заученных наизусть тестов, но не друг в друге и не в том, что стоит за текстами, что вдохновляло создателей этих текстов. Воспринимая себя как функцию, они и других людей воспринимают как функцию.
Отсюда, например, их надежды на войну, которая уничтожит ужасный мир, отсюда поразительное равнодушие «хранителей памяти» к гибели человека, которого пожарные, упустив настоящего Монтэга, преследуют в прямом эфире и торжественно убивают. Отсюда попытки Монтэга бороться с засильем пожарных, используя провокации (он решил подбрасывать в их дома книги и затем доносить на них). То есть причастность к высокой культуре не дает им полной защиты от внутренней скверны. Поэтому любая культура, которую они создадут на обломках старого мира, не защитит новый мир от нового зла. Разруха-то в головах, а не в книгах. Голова первична!
Приведу такую аналогию: если ваш компьютер заражен вирусом, то все программы находятся под управлением этого вируса. Если вы их удалите и снова установите на этот же компьютер, они снова заразятся. И не потому, что вирус изначально в них вшит, а потому что запускаются они в зараженной операционной системе.
Так вот, в рамках такой аналогии программы — это мировая культура, а операционная система — это человеческая природа. Поврежденная природа. И ее невозможно починить средствами культуры. Чтобы избавить компьютер от вируса, необходимо внешнее воздействие: нужно загрузиться со специального диска или флешки, запустить лечебную программу, переписать исходные, незараженные файлы. Так и с человеческой природой: чтобы излечить ее поврежденность, человеческих сил недостаточно, нужно внешнее воздействие. То есть воздействие Бога.
Поэтому когда я сказал, что культура сама в себе не содержит защитных механизмов, то слегка слукавил. То есть несомненных, стопроцентно действенных механизмов действительно нет и быть не может, однако какие-то относительные механизмы могут все же работать.
На мой взгляд, это устремленность культуры к Богу. Звучит, понимаю, пафосно, но все же если культура вырастает на религиозной почве, если подразумевает высшее начало, если видит человека не просто как существо, живущее лишь здесь и сейчас, если вольно или невольно призывает человека становиться добрее, умнее, отзывчивее (а только таким путем можно приблизиться к Богу), то такую культуру уже сложнее извратить, сложнее с ее помощью оправдать любые «свинцовые мерзости» нашей жизни, сложнее примитивизировать и превратить в культуру потребления.
Брэдбери же прямо об этом говорит устами негодяя Битти: «...ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют свое ничтожество». Если само наличие таких духовных великанов невозможно из культуры изъять, если вся эта культура предполагает заданную религией систему координат, в центре которой Бог, то непросто будет превратить все это в мыльные оперы с «родственниками» на телеэкранах. То есть если в культуре, помимо длины и ширины, есть еще и высота, то такая культура более защищена от возгорания.
Но, увы, это не абсолютная защита. Мы же знаем немало примеров того, как христианская в своей основе культура не просто не предотвращала, а даже напрямую оправдывала те вещи, которым мы сейчас не видим никаких оправданий. И кровавые войны, и воспетое Киплингом «бремя белых», и рабство, и «социальный дарвинизм» — все это вполне себе сочеталось не просто с массовой, но и с высокой культурой тех времен. Культурой, которая в основе своей была именно христианской, которая возникла в обществе, позиционировавшем себя как христианское.
Но тем не менее такая защита — лучше, чем ничего. Такую культуру, имеющую «третье измерение», духовный стержень, гораздо труднее незаметно превратить в пошлые телеразборки«родственников».
Духовный стержень будет защищать культуру от искажения, но и она сама будет защищать человека от озверения — потому что не просто транслирует ему высокие смыслы, но и становится каналом общения человека с Богом, общения двустороннего. Иначе говоря, Бог воздействует на человека не только непосредственно, но и через культуру. Именно через ту, в которой есть «третье измерение».
Видел ли Брэдбери этот путь, то есть считал ли, что для предотвращения описанного им ужаса надо вернуть культуре устремленность к Богу? Вопрос непростой.
С одной стороны, все его творчество пронизано христианским вúдением мира, христианским отношением к человеку. С другой, он в жизни не позиционировал себя как христианина, не говорил, в храмы какой христианской конфессии ходит. Наверняка был крещен в какой-то протестантской деноминации, но это лишь предположение. Поэтому нельзя утверждать, будто пафос «451 градуса» в том, чтобы воцерковить культуру.
Более того, в романе христианство явно видится как пусть и важный, но все же элемент общемировой культуры. «Вот мы все перед вами, Монтэг, — Аристофан и Махатма Ганди, Гаутама Будда и Конфуций, Томас Лав Пикок, Томас Джефферсон и Линкольн — к вашим услугам. Мы также — Матфей, Марк, Лука и Иоанн» (произнося это, Грэнджер имел в виду, что люди, на которых он указывал, помнят наизусть книги тех, чьи имена называет). И далее: «Все мы — обрывки и кусочки истории, литературы, международного права. Байрон, Том Пейн, Макиавелли, Христос — все здесь, в наших головах».
То есть Христос — в том же ряду, что Байрон и Макиавелли. Это, конечно, говорит Грэнджер, а не автор, но Грэнджер — герой, с которым автор никак в тексте не полемизирует.
...Так что же делать героям романа? В ситуации, когда уже случилась очередная ядерная война, когда города разрушены, Америка, по сути, уничтожена? Они надеются, что эта ужасная война, принесшая гибель миллионам людей, сможет что-то изменить к лучшему, что на обломках старого мира удастся выстроить новый, лучший. «Да, мы память человечества, и поэтому мы в конце концов непременно победим. Когда-нибудь мы вспомним так много, что соорудим самый большой в истории экскаватор, выроем самую глубокую, какая когда-либо была, могилу и навеки похороним в ней войну»,— говорит Грэнджер.
Вспомним, что роман написан в 1953 году, когда ни у кого еще не было представлений о последствиях ядерной войны (характерно, что никому из героев, наблюдавших разрушение города, не пришла мысль о радиации). Семьдесят лет назад слова Грэнджера могли выглядеть не столь пафосно, как сейчас. И Брэдбери вполне мог сам верить, что ужасная катастрофа придаст новый импульс человечеству, поможет ему выйти из кризиса обновленным. Однако такая вера — не твердая убежденность, а робкая надежда. В романе он не раз подчеркивает, что книги сами по себе никого не спасут, что восстановленные благодаря «хранителям памяти» книги могут быть вновь сожжены будущими поколениями, что всё вернется вновь. Тем не менее, несмотря на все риски, на отсутствие гарантий, дело хранителей памяти правое, надеяться на итоговую победу необходимо. И благодаря художественной силе текста все это кажется весьма убедительным, вдохновляющим.
Но сейчас эти надежды выглядят крайне наивными. И не только в силу исторического опыта, но прежде всего потому, что — если, конечно, смотреть с христианских позиций — в культуре (как и во всем, что сделано человечеством) спасения нет. Культура может поддержать отдельных людей, но не все общество. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в них же нет спасения (Пс 145). Это же не только про политиков, но и про ученых, художников, писателей, музыкантов и так далее. Культура крайне важна, но культура не спасает. Потому что спасает только Бог. Причем далеко не всегда именно в этой жизни.
Возможно, Брэдбери это чувствовал. Финал романа — цитата из Апокалипсиса: …и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов (Откр 22:2). Мне кажется, это неслучайно. Настоящее спасение будет не здесь, а за гранью земной истории.
* * *
Ну и в финале замечу, что в самом названии романа содержится неточность. Температура воспламенения бумаги — далеко не всегда 451 градус по Фаренгейту (что соответствует 233 градусам по Цельсию). Зависит от материала бумаги, технологии ее изготовления и множества прочих условий. Сам Брэдбери рассказывал в интервью, что позвонил в пожарную часть и спросил, при какой температуре загорается бумага. Ему сказали, что при 451 градусе, и он подумал, что это по Фаренгейту.
Хотя, по большому счету, какая разница? Нам важнее, чтобы книги не сжигали. Ни при какой температуре.